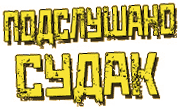АЛИМ Азамат оглу (1816, с. Копирликой Таврической губернии, - 2 половина XIX в.) крымскотатарский народный герой. Активно боролся против помещиков, царских чиновников и татарских мурз. Имущество, захваченное у богатых, разделял среди бедняков. Неоднократно арестовывался царскими властями, но каждый раз бежал и снова продолжал свою деятельность народного заступника. О последних годах жизни Алима точных данных нет. Многие исследователи полагают, что после ссылки в Сибирь он уехал в Турцию или на Кавказ.
Об Алиме народ сложил много песен, легенд (см. Легенды Судака: Разбойничья пещера). Ему посвятили свои произведения Ю. Болат (романы “Алим” и “Алим аткъа минди” (“Алим сел на коня”), Н. Попов (роман “Алим – крымский разбойник”), Ф. Соколовский (поэма “Долина эха”), С. Качиони (повесть “Свадебный подарок”) и другие писатели. По мотивам легенд и преданий об Алиме поставлено 5 кинофильмов: “Алим” (1916), “Алим – крымский разбойник” (1916), “Мамут и Яйше” (1925), “Алим” (1926), “Песнь на камне” (1926).
В историко-литературном журнале “Исторический вестник” (май, 1912) М. Шевляковым был опубликован рассказ “Гордость Крыма - разбойник Алим”, перепечатанный в сокращении в крымскотатарской газете “Мераба”:
“Действуя в духе героя, Алим защищал обездоленных. Известен случай, когда один симферопольский армянин, запутавшись в долгах, принужден был уступить свою красавицу дочь старому греку-ростовщику, владевшему векселями этого армянина. Грек поставил ультиматум - Или подавай деньги, или выдай за меня свою дочь. Долго изворачивался армянин, но поделать ничего не мог. Пришлось согласиться на последнее. Девушка плакала, убивалась, но день свадьбы был назначен, и событие казалось неотвратимым. Но кто-то надоумил армянина просить заступничества у Алима. Через посредничество татар армянин имел с разбойником свидание, результатом которого было то, что в тот же день Алим посетил ночью ростовщика, отняв у него все векселя армянина, строго-настрого приказал ему отказаться от искательства руки молодой девушки. Имя Алима в то время было так грозно, что грек беспрекословно последовал его совету. И слава Алима дошла в Крыму до того, что обиженные стали грозить своим обидчикам: - А вот я пожалуюсь на тебя Алиму. И жаловались…
В пояснениях к легендам (“Легенды Крыма”, выпуск первый, 1913) Н. Маркс писал: “… Предание об этой пещере сообщил мне местный грек Петр Егорович Джеварджи. Это предание связано с именем разбойника Алима, хорошо известного в Крыму по народному рассказу и песням. Поют о нем и татарские чал-гыджи на пирах, и местные гречанки, укачивая детей, как говорила мне помещица Елисавета Ставровна Должичева, из рода Цирули.
Алим, из д. Зуя под Симферополем, разбойничал в Крыму в сороковых годах прошлого столетия. Это был последний из ряда джигитов, с которыми русской власти пришлось считаться по присоединении Крыма к России. Он пользовался огромной популярностью и несомненной поддержкой среди татарского населения края. До безумия смелый и дерзкий Алим, говорят, отваживался вступать в открытую борьбу с небольшими отрядами войск, был не раз окружен и схвачен, но каждый раз бежал из тюрьмы, пока, наконец, в 1850 г., по наказании шестью тысячами ударов розг, был сослан в каторгу…
Карасубазарским начальником в то время был Павел Михайлович Жизневский, славившийся богатырской силой”. По воспоминаниям Л.П. Колли, опубликованным в Известиях Таврической Ученой Архивной Комиссии № 38, «Недавно госпожа Мария Дмитриевна Де-Вальден прислала из Одессы в дар Феодосийскому музею древностей хранившийся с 1849 года в ее семье, рисованный карандашом с натуры портрет-эскиз прославившегося лет 60 тому назад своими похождениями крымского разбойника Алима-Азамат оглу. Ввиду интереса, который может представить этот предмет, прилагаю facsimile портрета с маленькой заметкой. Не подвиги, разумеется, легендарного крымского Фра-Диаволо намереваюсь прославлять в этом кратком сообщении. Несмотря на почти богатырское представление, каким освещена личность Алима среди татарского населения нашего полуострова, эта личность по своим поступкам не может быть признана заслуживающею особенного внимания историка. Я только желал бы в этих строках, вместе с прилагаемым портретом, сообщить некоторые более или менее положительные данные, удостоверяющие подлинность прилагаемого рисунка, а также указать личность художника, которому удалось, при особенных обстоятельствах, закрепить навсегда на бумаге черты Алима, уже осужденного, незадолго до его ссылки. Не имея под руками документальных данных об этом татарском разбойнике, терроризировавшем в свое время все население Крыма, не стану много распространяться здесь о его почти легендарных проделках. Впрочем, и нет в этом надобности. Кажется, об Алиме уже все было сказано.
Помимо известных, более или менее достоверных, ходящих среди крымского населения рассказов, анекдотов, сцен, в последнее время появились в печати целые литературные произведения, - повести, романы, даже театральная пьеса под заглавием: “Алим, крымский разбойник”. Собственно говоря, Алим не был разбойником в полном смысле этого слова. Алим не убивал; он только, прибегая к насилию, грабил с оружием в руках и употреблял его лишь для того, чтобы напугать свою жертву, или для собственной защиты. Он походил на сицилийских или корсиканских бандитов, скрывавшихся в лесистых горах от преследования административных и судебных властей. Как известно, Алим был дезертиром и как таковой, смотря по обстоятельствам, всеми способами старался ускользнуть от преследовавших его полицейских и военных чинов. Благодаря присущей татарину-горцу ловкости, прекрасному знакомству с местностью, а равно и укрывательству со стороны своих соплеменников, быстрыми, громадными переходами из одного уезда в другой, часто пробивался он сквозь расставленные цепи охотников и солдат.
Из страха ли, или из участия к его несчастному положению, все татарские деревни, все муллы ему покровительствовали, доставляли приют, укрывали. Сколько раз для его поимки устраивали облавы из ста и более человек! Окруженный, как зверь в искусно подготовленной облаве, в местности, из которой, казалось, не ускользнул бы и мышонок, Алим, подобно оперному разбойнику, верхом, на глазах всех, пробивался сквозь чащи, спускался с крутой скалы в пропасть, или быстро поднимался на вершину соседней горы. В начале 80-х годов истекшего столетия мне случилось побывать в имении Шейх-Мамай, Феодосийского уезда, у профессора Ивана Константиновича Айвазовского. Зашла речь об Алиме. Вот что, между прочим, в беседе мне рассказывал маститый художник: “Однажды, в 40-х годах, помню, заехали ко мне, в Шейх-Мамай, из Феодосии, несколько офицеров и полицейских чинов и попросились здесь переночевать. “Алим, говорили они, скрывается тут недалеко, в окрестных старокрымских лесах. Идем завтра на рассвете устраивать облаву”. “Действительно, вставши утром, я их уже у себя не застал.
На другой день или на третий день вернулись офицеры. – “Ну что? - спрашиваю, - видали ли вы Алима?” - “Как же, видали! Мы цепью окружили всю гору между Отузами и Кизилташем. Разбойник скрывался в густом лесу. Его увидали наши ребята и стреляли в него. Конь у него молодой, серый. На голове у него серая смушковая шапка. Около 8 часов утра, когда наша рота, сомкнувшись, вот-вот должна была собраться в заранее намеченном пункте, с вершины соседней горы раздался звучный голос: “Ура”! Алим, как конная статуя, неподвижный, верхом на сером коне, махал шапкой. Вся его фигура рельефно выделялась на светлом фоне безоблачного неба. Только его и видали!” - Но скажите, Иван Константинович, - спросил я, - Вы видали Алима? - Конечно, не раз видал, беседовал даже с ним, как теперь с вами, здесь в Шейх-Мамае, кофеем его угощал. - Неужели? Каков был он собой? Какова была его наружность? - Наружность Алима? Как и у всех наших татар. Черная из люстрины куртка с короткими рукавами, из которых, покрывая мышцы, высели широкие, всегда чистые рукава рубахи; широкие черные, опоясанные восточным разноцветным шарфом штаны; на голых ногах крепкие, открытые башмаки, а на голове серая смушковая шапка, - таков был его костюм. Лицо у него было несколько продолговато, с серыми умными, симпатичными глазами, черные усики, плечи довольно широкие, рост средний, стан бодрый, телосложение здоровое. Видно было, что это ловкий и сильный татарин лет так около тридцати. Конь у него был лихой, как и сам хозяин. - Не существует ли где-нибудь его портрета? - Представьте себе, была здесь в Крыму, в конце 40-х годов, одна француженка, и ей удалось, по моей протекции, в Симферопольском тюремном замке срисовать карандашом с натуры эскиз Алима. - Что вы говорите? - Да. Но теперь неизвестно, где этот интересный рисунок. - В самом деле, интересно было бы лицезреть физиономию этого татарского бандита, о котором весь Крым рассказывает всевозможные легенды. - Не могу вам сказать, куда девался этот портрет. Вероятно, художница подарила его кому-нибудь или увезла с собой. Ведь в 40-х годах у нас получить гравированный портрет составляло большое затруднение, а тем более портрет такого субъекта, как Алим. Фотографии еще не существовало. - Вы говорили, Иван Константинович, что беседовали с Алимом здесь, в Шеих-Мамае. - Да, - быстро прервал меня маэстро. - Первая моя встреча с ним происходила здесь, летом, около 9-10 часов утра. Входит ко мне в мастерскую мой служитель и докладывает, что какой-то татарин желает поговорить со мной. Бросаю кисти, палитру и выхожу на веранду, где стоит молодой татарин. - Что тебе надо?- спрашиваю по-татарски. - Желаю говорить с Ованесом-ага. - Я. - А я – Алим, настоящий. - Алим!…Этот… - Да, много слышал я про тебя. Все тебя знают и хвалят. Давно хотел видеть тебя. Говорят, картины пишешь. Можно ли посмотреть? Айвазовский в этот день оканчивал четвертую из большинства заказанных султаном картин, видов Босфора. Сюжеты, интересные для мусульманина. - Хочешь посмотреть на мои работы? Иди! Мы вошли в мастерскую. - Вот виды Стамбула, сераля падишаха, Босфора, Скутари… - Красиво!… А эти маленькие картины на стене – это тоже твоя работа? - Как же! Это виды нашего Крыма. - Узнаю! Места эти мне хорошо известны. Горы, даль, зелень. Вот Судак, Ялта, вот здесь на Салгире, такие же точно места! Ты был там, Ованес-ага? - Конечно! - Я эти места прекрасно знаю. Часто в них бываю. Там такие чудные места! Скалы, леса, ручьи… Как хорошо там отдыхать, улечься в тени!… О, наш Крым лучше всех султанских дворцов!… Спасибо тебе, Ованес-ага, что ты мне все это показал. Теперь понимаю, почему все, даже государь, с тобой знакомы. Спасибо. Прощай, Ованес-ага!
Услышав этот рассказ “Рафаэля морей”, мне казалось, что я присутствую при повторении на почве Тавриды известной сцены из биографии Сальватора Розы, когда, где-то в горах Калабрии, своими только что оконченными с натуры этюдами этот художник очаровал и довел до нежного умиления невинной овечки грозного политанского бандита. Нам хорошо известно, как горячо Айвазовский любил свой Крым. Алим же, несмотря на легкую для него возможность сто раз покинуть скалы и пропасти яйлы, предпочел покориться строгости государственных законов, чем переселиться куда-нибудь, хотя бы и в мусульманскую Турцию. - Нет, Алим, не “прощай”, - продолжал свой рассказ Айвазовский. - Я здесь хозяин. Выпьем, по крымскому обычаю, по чашке хорошего кофе. И на веранде Алим принял от хозяина чашку турецкого кофе. Они разговорились. - Холост ты еще, Ованес-ага? - Да, но думаю скоро жениться. - Буду на твоей свадьбе! Хочу посмотреть на твою невесту. Айвазовский весь содрогнулся от ужаса. - Да, да, буду. Прощай, Ованес-ага! И, поспешно вышедши за плетень сада, Алим вскочил на серенького дружка и помчался по направлению к Бурундуку.
В 1849 году Айвазовский женился на англичанке Ю.Я. Гревс. Брачный обряд происходил в феодосийской армянской церкви, а затем, по желанию невесты, в виде благословения, в цюрихтальской реформатской церкви. Многочисленный свадебный кортеж возвращался после венчания из кирки в Шеих-Мамай. Путь был недалек, всего 4-5 верст. Среди экипажей, карета в четверку с опущенными стеклами везла молодых. Вдруг, по дороге из-за бугра, в праздничной одежде, с повязанным бантом шелковым платком, на левой руке, в серой смушловой шапке на сером коне, показался лихой ездок – татарин и подскакал к карете. Жених узнал Алима. Этот же, наклонившись с седла к дверцам экипажа, сделал знак рукой жениху. - Сказал я тебе, Ованес-ага, что буду на твоей свадьбе. Вот и явился. Поздравляю - невеста твоя хороша! - И Алим, несколько отставая от кареты, исчез за бугорком. Несколько дальше, опять пользуясь неровностью почвы, он уже скачет рядом с другими дверцами кареты и в упор смотрит в лицо молодой. Безмолвно вынимает он из-под куртки дорогой шелковый турецкий платок и, как истинный татарский джентльмен, ловко, грациозно бросает его на колени невесты. - Желаю тебе счастья, Ованес-ага! крикнул он. - Видишь, я сдержал слово. Прощай!
Прошло несколько месяцев после этого эпизода. Айвазовские проводили зимние месяцы в Симферополе. В губернском городе, во всех кружках, только и говорили об Алиме. Разбойник был задержан. Надоела ему эта жизнь преследуемого зверя. Передавали, что среди бела дня зашел он в городской сад и лег на скамью, в тени, на берегу любимого им Салгира. Довольно разбойнической жизни, довольно борьбы с законом! Настал час искупления. Он заснул. Его окружили полицейские, задержали и под сильным конвоем препроводили в губернский тюремный замок. В это же время в Симферополе подвизалась француженка; сопрано, лауреат парижской консерватории, девица Лелоррен. Объезжала она крымские города под крыльями матери, образованной женщины, вместе с младшею сестрою, Leonie, художницею-портретисткой. Этому трио покровительствовали дамы высшего общества города, и певица Лелоррен давала концерты в дворянских домах, куда ее приглашали на вечер. Везде ее успех был блестящий. Особое благоволение успела она приобрести в лице добрейшей и благороднейшей Прасковии Константиновны Кушниковой, рожденной Гирс, переехавшей на время с семьею из Феодосии в Симферополь. В начале декабря 1849 года Лелоррен была приглашена петь на вечере в доме тогдашнего таврическаого губернатора, Владимира Ивановича Пестеля. Гостей было много, и между ними профессор Айвазовский. Младшая Лелоррен была ему представлена, и тут, как собратья по профессии, они разговорились. От области живописи, слово за слово, беседа перешла к злобе дня, к Алиму. - Нельзя ли, - спросила Лелоррен, - срисовать его портрет? - Для этого, сударыня, - возразил Айвазовский, - придется преодолеть много препятствий. Если, благодаря вашему таланту, вы вторая Шехерезада, то, пожалуй, постараюсь быть вам вторым Аладином и раскрыть пред вами те двери, за которыми слышно дикое рычание зверей и характерный звон арестантских оков. - Знаю, что вы большой волшебник. - Говорят, что для женщин закон всегда снисходителен, но когда женщина такова, как вы, с божьим огнем, то какие же могут быть для нее преграды? Искусство не имеет пределов, и пред ним, надеюсь, преклонится и строгость господина прокурора.
И Фемида, действительно, преклонилась пред искусством. На другой день Леони Лелоррен срисовала портрет крымского Фра Даволо. В изображении бандита чувствуется поспешность исполнения. Но удары карандаша начерчены метко, твердо, искусною рукой. Наоборот, главное, черты лица разбойника схвачены опытным глазом. Видно, что Лелоррен была портретисткою не на шутку, и мы должны быть благодарны волшебнику Айвазовскому, что, благодаря его протекции, благосклонно раскрылись перед художницей двери тюрьмы. Что касается подлинности портрета Алима, позволяю себе прибавить, что в архиве Феодосийского музея хранится письмо глубокоуважаемой Марии Дмитриевны Де-Вальден, в котором удостоверяется, что “рисунок был поднесен Леони Лелоррен госпоже Кушниковой в Керчи в знак признательности, на память, за сердечное ее отношение к сестре – певице в артистическом путешествии последней по Крыму”. Сверху этого прошу обратить внимание на подлинную подпись: “Leonit Lelorrain, 11 december 1849” и на “посвящение”, которое, по содержанию, выказывается, как и рисунок, особенно теплую жилку художницы. “Si ces quelques traits m’attirent quelques fois un petit souvenir de vous, la copie aura fait plus de bien, que l’original n’a jamais fait de mal” (Если когда-нибудь эти штрихи должны возбудить в вашей душе хоть малейшее воспиминание обо мне, то тогда копия сделает больше добра, чем когда-либо оригинал совершил зла). Независимо от того, что почерк в этих поперечно нанесенных на рисунке строках тождествен с почерком подписи художницы, из смысла этих строк, в сопоставлении двух противоположных понятий о добре и зле, проглядывается ужас, который наводило имя Алима даже на приезжую иностранку. Недаром, по рассказу Айвазовского, из уст которого я воспринял и передаю эти сведения, во всех слоях симферопольского тогдашнего общества известие о поимке разбойника произвело так же сильное впечатление. “Только о нем и говорили”! – Еще бы! Столько лет в уездах Симферопольском, Ялтинском, Евпаторийском и Феодосийском никто из обывателей не решался без страха отправиться куда-нибудь в дорогу по делам!
Известие о поимке Алима успокоило всю губернию. Однако я не исполнил бы всей своей задачи, если бы для полной характеристики “оригинала” прилагаемого рисунка не занес в это сообщение следующей сцены, слышанной мною также из уст Айвазовского, последнего акта истории портрета. Вообще все рассказы о таких героях, как Алим, имеют две стороны: действительность и легенду. В действительном факте легко узнать правду, потому что она сама выделяется наружу и сразу вас убеждает. Легенда же, разукрашивая память о подобных Алиму личностях, являет результатом получаемых в народе впечатлений как во время, так и после жизни героя. Когда говорят о поступках Алима, этого простого горца-татарина, не раз проглядывают в нем такие характерно-рыцарские черты, какие редко приходится встречать даже у интеллигентного человека. В предании об Алиме, несмотря на то, что с того времени прошло всего полвека, легендарная сторона занимает очень важное место.
Этому нечего удивляться: Алим – герой татарских саклей, деятельность которого разукрашена народом богатою восточною фантазией. Между тем все его поступки, если они исторически не правдивы, являются по крайней мере правдоподобными. Вот почему, как уже было сказано, для полной характеристики крымского разбойника, когда мы говорим о его портрете, нужно еще упомянуть о следующей, ведущей начало, вероятно, из татарского источника легенде, ярко освещающей, “рыцарскую” сторону души Алима. Окончив рисунок, Леони готовилась уже уходить из тюремной камеры, как Алим выразил желание взглянуть на ее работу. Одобрив исполнение портрета, Алим обратился к художнице будто бы со следующими словами: “Уходя отсюда, ты уносишь с собой эту вещь как память, воспоминание о мимолетном появлении твоем предо мной. Спасибо тебе за благословенное внимание ко мне. Я этого не заслужил. Твои черты навсегда останутся запечатленными в душе моей!” На это Леони нервно сняла закреплявшую ее шейный платочек золотую булавку, дрожащею от волнения рукою приколола ее к отвороту халата приговоренного и направилась к выходу. - Нет, - крикнул разбойник, - в таком случае не так следует поступать, а вот как! И, широко распахнув халат и сорочку и раскрыв грудь, вонзил он себе в грудную кость острие булавки, переломал ее пополам и вручил конец с головкой художнице, твердо произнеся: “Это тебе, а это, - указывая на грудь, - останется мне!” Передаю рассказ об этой драматической сцене без дальнейшего коментария. Легенда здесь очевидна, но она слишком характерна, чтобы я о ней умолчал, тем более, что мне ее передавал сам “Рафаэль морей”.